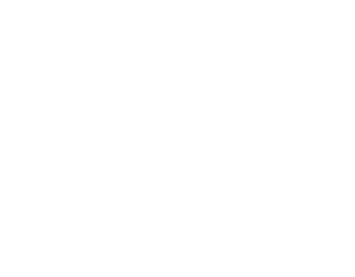
ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ
Спецпроект рубрики «Барсучата».
Дневник фестиваля «День сказок» в Упсала-цирке.
Дневник фестиваля «День сказок» в Упсала-цирке.
Это моё детство, это мой день.
Третьего сентября в Упсала-цирке взрослые и дети погрузились в череду спектаклей и захватывающих представлений. «День сказок» – фестиваль, развернувшийся одновременно на нескольких площадках, – предлагал маленькому зрителю развлечения и приключения на любой вкус.
Про День сказок, наверное, должен писать ребенок. Он написал бы не о длинных очередях за малиновым вензелем, а о его хрустящем боке и малине, которая станет прозрачной, если через неё посмотреть на солнце; он написал бы не о сломавшемся проекторе, а о теплом молоке, которое наливали две божьи коровки перед мультиком из резинового сапога и старого кожаного портфеля; он написал бы не о том, как долго надо ожидать представление в будке TeatriumAutomata, а о золотой шторке, из-за которой раздавалась мелодия музыкальных шкатулок. И еще о многих-многих местах на фестивале, откуда доносился детский смех.
«Барсук-театровед» побывал на разных площадках, увидел мероприятия из программы фестиваля и побеседовал с создателями некоторых из них.
Про День сказок, наверное, должен писать ребенок. Он написал бы не о длинных очередях за малиновым вензелем, а о его хрустящем боке и малине, которая станет прозрачной, если через неё посмотреть на солнце; он написал бы не о сломавшемся проекторе, а о теплом молоке, которое наливали две божьи коровки перед мультиком из резинового сапога и старого кожаного портфеля; он написал бы не о том, как долго надо ожидать представление в будке TeatriumAutomata, а о золотой шторке, из-за которой раздавалась мелодия музыкальных шкатулок. И еще о многих-многих местах на фестивале, откуда доносился детский смех.
«Барсук-театровед» побывал на разных площадках, увидел мероприятия из программы фестиваля и побеседовал с создателями некоторых из них.
Жёлтый шатёр
Треш-оркестр и сказки Упсала-Цирка.
Треш-оркестр и сказки Упсала-Цирка.
Упсала-Цирк – единственный в мире цирк для хулиганов. И если у каждого цирка должен быть свой оркестр, то у цирка для хулиганов – треш-оркестр. Музыканты – дети семей мигрантов, подопечные цирка, настроены очень серьезно. Инструменты – пустые канистры, пластиковые бочки, ящики, поварешки, литавры, тамтам, барабанные палочки. Итого: грохот, шум, энергия, ритм. Нет какофонии, нет разлада (большего, чем должен быть в настоящем треш-орестре). Композиции достаточно сложные, порывавшемуся хлопать в такт зрителю не так-то легко поймать ритм.
Исполнив пару композиций, юные музыканты приглашают всех в только что отремонтированный цирк, смотреть трешовые сказки собственного сочинения.
Первая сказка, которая, по словам Ларисы Афанасьевой, впечатлила бы самого Хармса, рассказывает об электрике Анатолии Ивановиче (которого все звали просто Анатолий). Сказка действительно абсурдистская, ведь задача главного героя – починить розетку, а она почему-то летает на воздушном шарике! Так что сначала придется ее поймать, с помощью Человека в одном носке (с потрясающими фиолетовыми крыльями) и Курицы, которая ела котлету с пюре...
Сказка напоминает мультфильм, только он создается прямо у нас на глазах – фигуры движутся по подсвеченному сзади экрану.
Вторая сказка – хулиганская версия сотворения мира. Это уже полноценный видеоарт: разноцветными силуэтами скачут, бегают, прыгают и кувыркаются на экране цирковые ребята, а поверх них наложены цветные пятна (такие бывают, если закрыть глаза после того, как смотрел на солнце). На записи детские голоса – авторы по очереди рассказывают сказку о бабочке, пустоте и камнях, о сотворении мира.
Третья сказка – ожившая картина в буквальном смысле слова: основное действие разворачивается за рамой огромного полотна: «Осторожно, это же Кандинский!» – несколько раз воскликнет гнусавый голос: добрая половина представления – бессловесная клоунада, где все реплики и скрипы озвучиваются параллельно голосом из вне.
Затем голос обретет главный герой – хозяин картины, но для этого ему нужно найти микрофон. Однако пока он ходит за ним, в дом, миновав многочисленные замки, цепочки и запоры (и закрывание, и взлом – пантомима, «озвучка» дополняет движения скрежетом и щелчками), проникает маленькая светловолосая воровка, в кепке и в объемном пиджаке – причине серии трюков и комических ситуаций: хозяин будет хватать вора за шиворот, а вор будет выворачиваться. В конце концов, девочка поймана и посажена на табуретку – слушать сказку про то, что происходит в картине.
Сами создатели присвоили третьей сказке необычный жанр стендап-клоунады: текст сказки – импровизация, соотносящаяся с клоунадой остальных актеров. Уверенность и свобода исполнителей поражает: они абсолютно раскованы и не боятся ни двигаться, ни говорить, ни импровизировать – вероятно, сказывается цирковая подготовка.
На картине (или, точнее, в картине) три принцессы и отважный принц на зеленом скакуне (лошадиная голова на швабре). Все вполне трешовы: кудрявые разноцветные парики, пестрые костюмы, перья, шарики. Что-то есть в них инопланетное.
Сюжет классический – принц на своем верном коне отправляется на поиски дамы сердца, и даже страшный дракон не пугает его. Принцессы ведут себя в соответствии со своей трешовой одеждой: танцуют хип-хоп, наскакивают на зрителей с мыльными пузырями и т. д. Но, даже преодолев все испытания, «ту самую» принц не находит.
Внутри сказки принцип сторонней озвучки сохраняется: теперь хозяин картины рассказывает о том, что происходит. Когда мы возвращаемся к рамочной истории, хозяин вновь теряет голос. Однако принца все же ждет счастливый конец: маленькая воровка переступает раму, сбрасывает мешковатые штаны и рубашку – под ними прекрасное платье. Под вальс герои сбегают из картины, оставляя раму тем, кто захочет подшутить над её хозяином.
Исполнив пару композиций, юные музыканты приглашают всех в только что отремонтированный цирк, смотреть трешовые сказки собственного сочинения.
Первая сказка, которая, по словам Ларисы Афанасьевой, впечатлила бы самого Хармса, рассказывает об электрике Анатолии Ивановиче (которого все звали просто Анатолий). Сказка действительно абсурдистская, ведь задача главного героя – починить розетку, а она почему-то летает на воздушном шарике! Так что сначала придется ее поймать, с помощью Человека в одном носке (с потрясающими фиолетовыми крыльями) и Курицы, которая ела котлету с пюре...
Сказка напоминает мультфильм, только он создается прямо у нас на глазах – фигуры движутся по подсвеченному сзади экрану.
Вторая сказка – хулиганская версия сотворения мира. Это уже полноценный видеоарт: разноцветными силуэтами скачут, бегают, прыгают и кувыркаются на экране цирковые ребята, а поверх них наложены цветные пятна (такие бывают, если закрыть глаза после того, как смотрел на солнце). На записи детские голоса – авторы по очереди рассказывают сказку о бабочке, пустоте и камнях, о сотворении мира.
Третья сказка – ожившая картина в буквальном смысле слова: основное действие разворачивается за рамой огромного полотна: «Осторожно, это же Кандинский!» – несколько раз воскликнет гнусавый голос: добрая половина представления – бессловесная клоунада, где все реплики и скрипы озвучиваются параллельно голосом из вне.
Затем голос обретет главный герой – хозяин картины, но для этого ему нужно найти микрофон. Однако пока он ходит за ним, в дом, миновав многочисленные замки, цепочки и запоры (и закрывание, и взлом – пантомима, «озвучка» дополняет движения скрежетом и щелчками), проникает маленькая светловолосая воровка, в кепке и в объемном пиджаке – причине серии трюков и комических ситуаций: хозяин будет хватать вора за шиворот, а вор будет выворачиваться. В конце концов, девочка поймана и посажена на табуретку – слушать сказку про то, что происходит в картине.
Сами создатели присвоили третьей сказке необычный жанр стендап-клоунады: текст сказки – импровизация, соотносящаяся с клоунадой остальных актеров. Уверенность и свобода исполнителей поражает: они абсолютно раскованы и не боятся ни двигаться, ни говорить, ни импровизировать – вероятно, сказывается цирковая подготовка.
На картине (или, точнее, в картине) три принцессы и отважный принц на зеленом скакуне (лошадиная голова на швабре). Все вполне трешовы: кудрявые разноцветные парики, пестрые костюмы, перья, шарики. Что-то есть в них инопланетное.
Сюжет классический – принц на своем верном коне отправляется на поиски дамы сердца, и даже страшный дракон не пугает его. Принцессы ведут себя в соответствии со своей трешовой одеждой: танцуют хип-хоп, наскакивают на зрителей с мыльными пузырями и т. д. Но, даже преодолев все испытания, «ту самую» принц не находит.
Внутри сказки принцип сторонней озвучки сохраняется: теперь хозяин картины рассказывает о том, что происходит. Когда мы возвращаемся к рамочной истории, хозяин вновь теряет голос. Однако принца все же ждет счастливый конец: маленькая воровка переступает раму, сбрасывает мешковатые штаны и рубашку – под ними прекрасное платье. Под вальс герои сбегают из картины, оставляя раму тем, кто захочет подшутить над её хозяином.
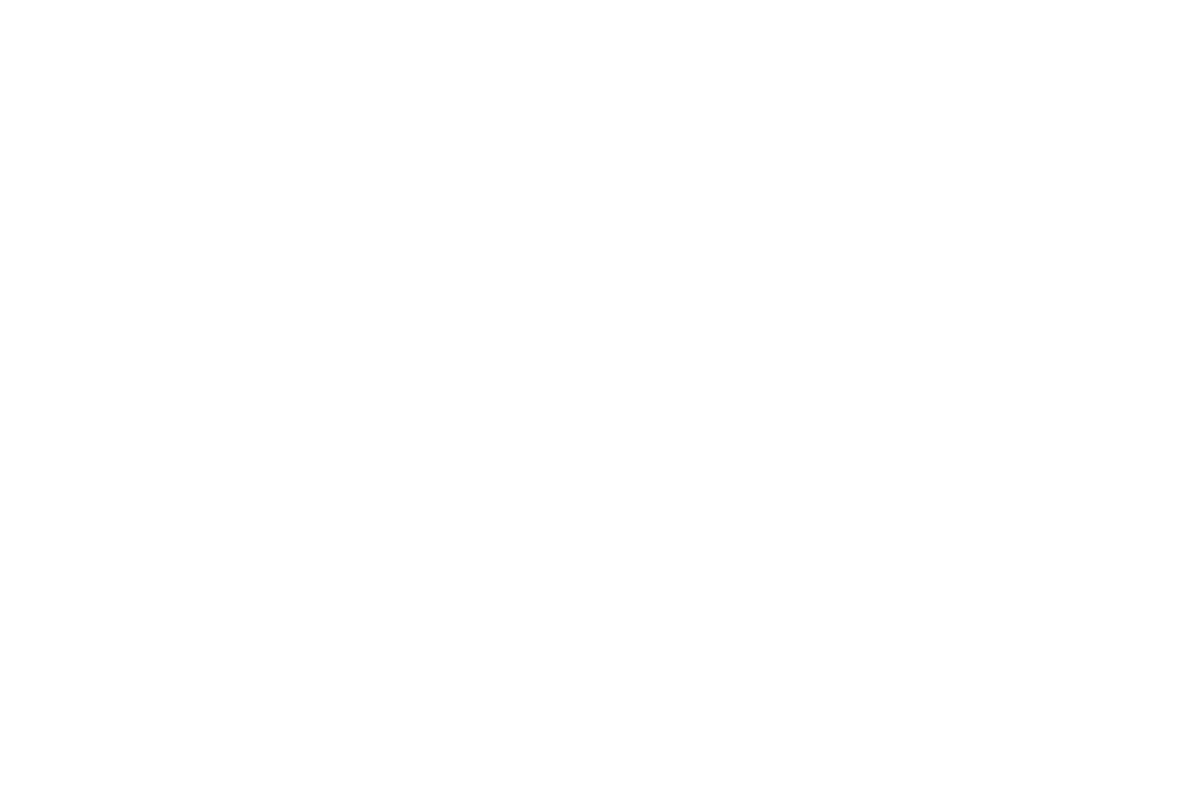

ИНТЕРВЬЮ
Лариса Афанасьева
Лариса Афанасьева
Расскажите, пожалуйста, про треш-оркестр.
Была мечта сделать свой треш-оркестр, у каждого цирка должен быть свой треш-оркестр: он должен иногда нескладно играть по законам бродячего цирка. Мы и решили все эти правила абсолютно соблюдать. Нужно нескладно играть, значит, мы нескладно играем. Мы делали проект с детьми иммгрантских семей и поняли, что ритм это какая-то такая вещь, которая объединяет всех людей. И мы подумали, что это тоже какая-то важная часть. Помимо треш-оркестра ребята будут сейчас внутри показывать не менее трешовые сказки, которые они придумали сами.
Как изменились возможности Упсала-цирка после ремонта?
У нас стала больше сцена, стали более удобные места для зрителей, мы сделали историю со светом, со звуком более удобной... Ну да, для нас это тоже шаг вперёд.
А что нас ждет дальше?
Сейчас Яна Тумина вместе с нами ставит спектакль "Я - Басе" по стихам Басе. Там участвуют наши дети с ограниченными возможностями, в ноябре состоится премьера, и, мне кажется, это будет очень круто.
Была мечта сделать свой треш-оркестр, у каждого цирка должен быть свой треш-оркестр: он должен иногда нескладно играть по законам бродячего цирка. Мы и решили все эти правила абсолютно соблюдать. Нужно нескладно играть, значит, мы нескладно играем. Мы делали проект с детьми иммгрантских семей и поняли, что ритм это какая-то такая вещь, которая объединяет всех людей. И мы подумали, что это тоже какая-то важная часть. Помимо треш-оркестра ребята будут сейчас внутри показывать не менее трешовые сказки, которые они придумали сами.
Как изменились возможности Упсала-цирка после ремонта?
У нас стала больше сцена, стали более удобные места для зрителей, мы сделали историю со светом, со звуком более удобной... Ну да, для нас это тоже шаг вперёд.
А что нас ждет дальше?
Сейчас Яна Тумина вместе с нами ставит спектакль "Я - Басе" по стихам Басе. Там участвуют наши дети с ограниченными возможностями, в ноябре состоится премьера, и, мне кажется, это будет очень круто.
Сказки с тёплым молоком
В зал жёлтого шатра постепенно заходили новые зрители. Прежде чем расположиться на подушках в амфитеатре, каждый мог получить стаканчик тёплого молока. Его разливали два клоуна в костюмах божьих коровок, которые по своей форме больше смахивали на неправильно выкрашенных ос. Молоко лилось из больших самоваров, из сапога, из старого школьного портфеля, черпалось половником прямо из ведра. Разлив молоко всем желающим, «божьи коровки» предложили устраиваться поудобнее – впереди всех ожидал мультфильм.
Собственно, мультфильм оказался сложным, рассчитанным скорее на детей постарше. Трогательная рисованная история о старости, одиночестве и силе воспоминаний смогла увлечь не всех. Главный герой – пожилой одинокий мужчина. Иногда он погружается в пучину воспоминаний. Она изображена как большой потоп, который затапливает всё вокруг, и, чтобы спуститься на самое дно памяти, главному герою необходим акваланг.
Снарядившись в точности как профессиональный ныряльщик, герой погружается глубже и глубже. Вдруг возникают картины из его памяти – семейные сборы и встречи его семьи. В том мире все вечно молоды, улыбчивы и счастливы. Воспоминания переплетаются с реальностью, с обидно пустой квартирой, одиноко свисающей скатертью и фотографиями в рамочках. Фотографиями того самого мира.
Не каждый ребёнок оказался готов досмотреть мультфильм до конца. Тем не менее, в зале остались зрители, смотревшие его на одном дыхании. В такие минуты очень верится, что есть очень много чутких маленьких зрителей.
В зал жёлтого шатра постепенно заходили новые зрители. Прежде чем расположиться на подушках в амфитеатре, каждый мог получить стаканчик тёплого молока. Его разливали два клоуна в костюмах божьих коровок, которые по своей форме больше смахивали на неправильно выкрашенных ос. Молоко лилось из больших самоваров, из сапога, из старого школьного портфеля, черпалось половником прямо из ведра. Разлив молоко всем желающим, «божьи коровки» предложили устраиваться поудобнее – впереди всех ожидал мультфильм.
Собственно, мультфильм оказался сложным, рассчитанным скорее на детей постарше. Трогательная рисованная история о старости, одиночестве и силе воспоминаний смогла увлечь не всех. Главный герой – пожилой одинокий мужчина. Иногда он погружается в пучину воспоминаний. Она изображена как большой потоп, который затапливает всё вокруг, и, чтобы спуститься на самое дно памяти, главному герою необходим акваланг.
Снарядившись в точности как профессиональный ныряльщик, герой погружается глубже и глубже. Вдруг возникают картины из его памяти – семейные сборы и встречи его семьи. В том мире все вечно молоды, улыбчивы и счастливы. Воспоминания переплетаются с реальностью, с обидно пустой квартирой, одиноко свисающей скатертью и фотографиями в рамочках. Фотографиями того самого мира.
Не каждый ребёнок оказался готов досмотреть мультфильм до конца. Тем не менее, в зале остались зрители, смотревшие его на одном дыхании. В такие минуты очень верится, что есть очень много чутких маленьких зрителей.
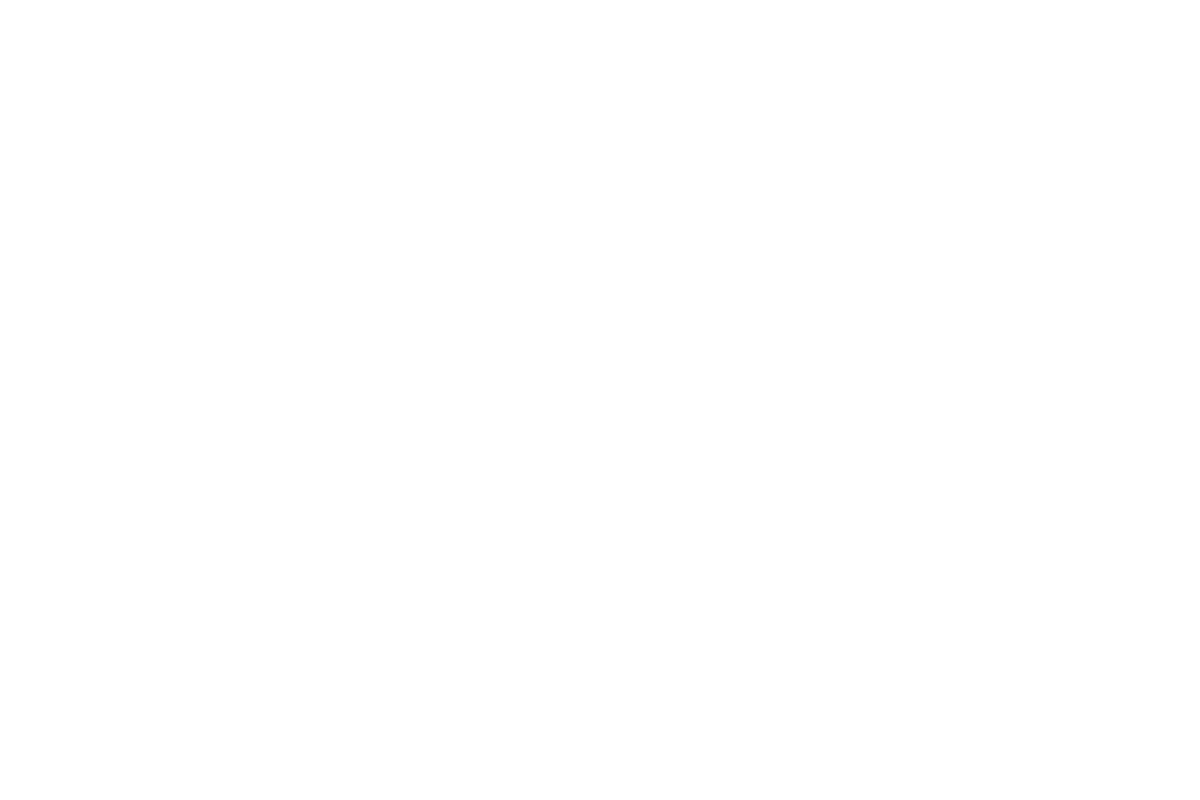
Усадьба английской тётушки
Некоторые представления «Дня сказок» разворачивались на открытом воздухе. Неподалёку от озера стояла так называемая «Усадьба английской тётушки», где все желающие могли послушать детские сказки, которые читали известные театральные актёры.
Усадьба была поделена на три зоны – беседку для девочек, площадку с огромным покрывалом и подушками и площадку с кроватью, напротив которой стоял стул. Усадьба стала волшебным миром сказки как таковой, где можно было удобно устроиться и почти в домашней атмосфере услышать несколько невероятных историй.
Отовсюду свисают пышные бумажные розы, солнце приятно щекочет лицо, и вот, начинается сказка. Проводник в усадьбу – одетая в строгое розовое платье дама с большим ажурным зонтиком, проводила слушателей по трём площадкам. Если на самой первой можно было услышать сказки о волшебстве, на второй – о том, как справиться с монстрами, то третья площадка была, безусловно, уникальной. На ней ребятам предлагали послушать так называемую «папину сказку». Ведь кто, как не папа, научит смелости и отваге и расскажет про самые безумные приключения? Дети слушали по-разному: кто-то задумчиво смотрел на озеро, кто-то изучал рисунок на покрывале под собой, кто-то смотрел на читающего не отрываясь. Складывалась атмосфера домашнего уюта.
А на том самом озере неподалёку можно было услышать другие сказки – авторские, в прочтении сочинивших их гостей фестиваля – Миши Сафронова, Димы Зицера и Яны Туминой.
Усадьба была поделена на три зоны – беседку для девочек, площадку с огромным покрывалом и подушками и площадку с кроватью, напротив которой стоял стул. Усадьба стала волшебным миром сказки как таковой, где можно было удобно устроиться и почти в домашней атмосфере услышать несколько невероятных историй.
Отовсюду свисают пышные бумажные розы, солнце приятно щекочет лицо, и вот, начинается сказка. Проводник в усадьбу – одетая в строгое розовое платье дама с большим ажурным зонтиком, проводила слушателей по трём площадкам. Если на самой первой можно было услышать сказки о волшебстве, на второй – о том, как справиться с монстрами, то третья площадка была, безусловно, уникальной. На ней ребятам предлагали послушать так называемую «папину сказку». Ведь кто, как не папа, научит смелости и отваге и расскажет про самые безумные приключения? Дети слушали по-разному: кто-то задумчиво смотрел на озеро, кто-то изучал рисунок на покрывале под собой, кто-то смотрел на читающего не отрываясь. Складывалась атмосфера домашнего уюта.
А на том самом озере неподалёку можно было услышать другие сказки – авторские, в прочтении сочинивших их гостей фестиваля – Миши Сафронова, Димы Зицера и Яны Туминой.
Сказки над водой
«Сказки над водой» можно назвать квинтэссенцией «Дня сказок» в Упсала-цирке: это соединение циркового трюка и, собственно, сказки. Над озером протянут трос, по которому разгуливает отважный канатоходец, в то время как по воде в уютном и довольно внушительном кресле плавает рассказчик.
Вот в плаванье отправляется режиссер Яна Тумина. Лариса Афанасьева в шутку сравнивает ее с Черепахой Тортиллой из фильма «Буратино», и сравнение это достаточно точное – со спокойствием и уверенностью хозяйки озера сидит Тумина в плавучем кресле. Кажется, еще чуть-чуть, и она начнет петь известную песню.
Но песни не будет, будет сказка, а, точнее, история, собранная из нескольких легенд об одной далекой горной деревушки. Руслан Абакаров, канатоходец, по словам Туминой, как раз из этой деревни. С началом сказки, он отправляется в свое опасное путешествие.
Рассказчица повествует о том, почему люди в этой деревне учились ходить по канату, про жестокое и опасное испытание, которое проводили старейшины, про двух влюбленных, которым пришлось через него пройти и про новый способ ходить по канату, который они в результате изобрели.
Сказка звучит совсем не так, как звучала бы, если бы кроме самого расскакза ничего не было: слушая, мы во все глаза смотрим на канатоходца. Вот он идет с длинным шестом от одного конца пруда к другому, вот, стоя на канате, присел, вот встал на одну ногу, а вот прилег отдохнуть! Живой человек, здесь и сейчас совершает что-то невероятное, что-то… так и хочется сказать: «сказочное».
Затаив дыхание, смотрим мы на Абакарова, и рассказ Туминой обретает плоть и кровь, оживает.
«Сказки над водой» можно назвать квинтэссенцией «Дня сказок» в Упсала-цирке: это соединение циркового трюка и, собственно, сказки. Над озером протянут трос, по которому разгуливает отважный канатоходец, в то время как по воде в уютном и довольно внушительном кресле плавает рассказчик.
Вот в плаванье отправляется режиссер Яна Тумина. Лариса Афанасьева в шутку сравнивает ее с Черепахой Тортиллой из фильма «Буратино», и сравнение это достаточно точное – со спокойствием и уверенностью хозяйки озера сидит Тумина в плавучем кресле. Кажется, еще чуть-чуть, и она начнет петь известную песню.
Но песни не будет, будет сказка, а, точнее, история, собранная из нескольких легенд об одной далекой горной деревушки. Руслан Абакаров, канатоходец, по словам Туминой, как раз из этой деревни. С началом сказки, он отправляется в свое опасное путешествие.
Рассказчица повествует о том, почему люди в этой деревне учились ходить по канату, про жестокое и опасное испытание, которое проводили старейшины, про двух влюбленных, которым пришлось через него пройти и про новый способ ходить по канату, который они в результате изобрели.
Сказка звучит совсем не так, как звучала бы, если бы кроме самого расскакза ничего не было: слушая, мы во все глаза смотрим на канатоходца. Вот он идет с длинным шестом от одного конца пруда к другому, вот, стоя на канате, присел, вот встал на одну ногу, а вот прилег отдохнуть! Живой человек, здесь и сейчас совершает что-то невероятное, что-то… так и хочется сказать: «сказочное».
Затаив дыхание, смотрим мы на Абакарова, и рассказ Туминой обретает плоть и кровь, оживает.
Синее шапито
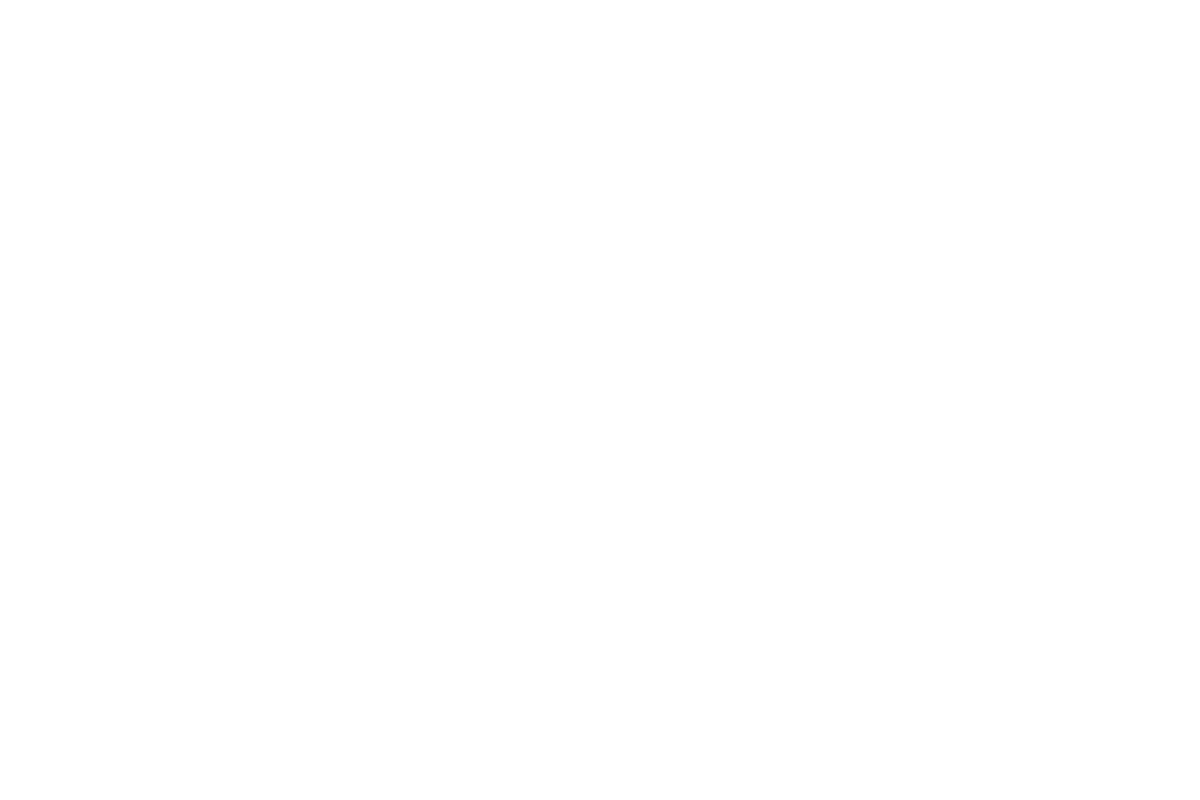 | 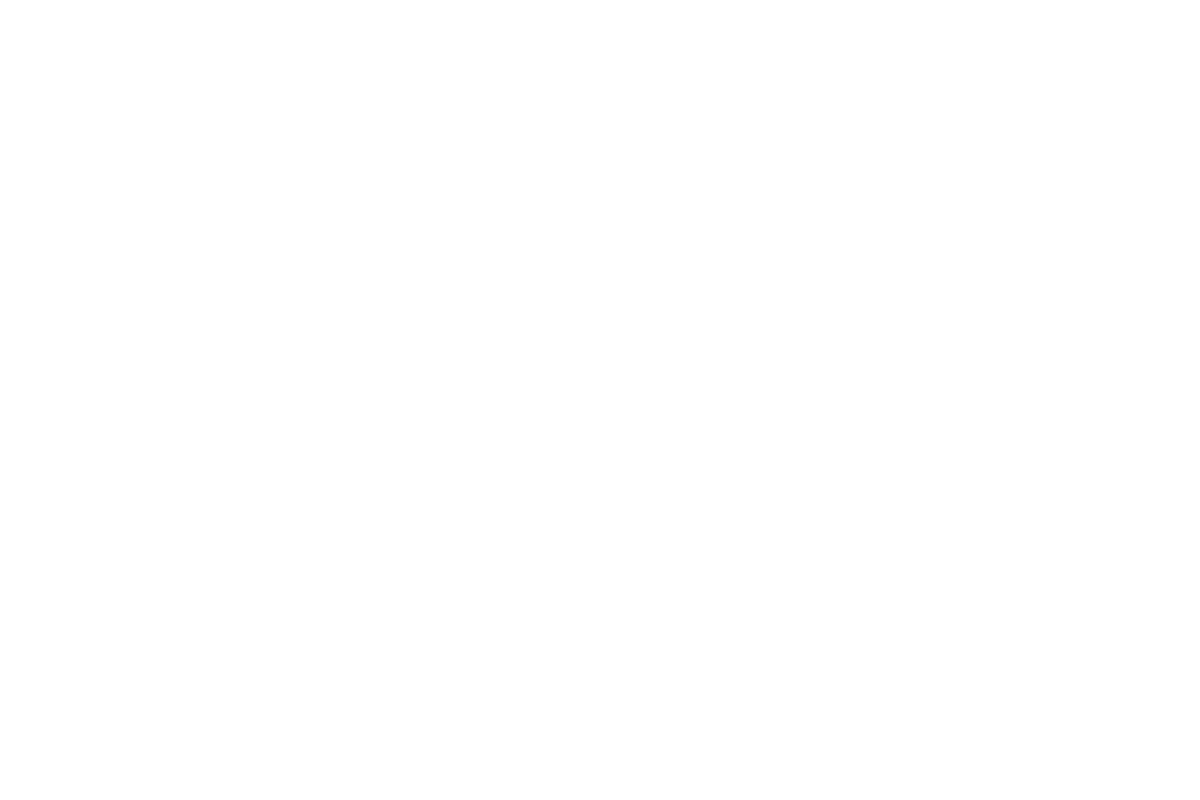 |
Летающий слон
Спектакль «Летающий слон» сделан по мультфильму «Летающие звери» –благотворительному мультсериалу, созданному благотворительным фондом «AdVita» и Анимационной студией «Да».
Спектакль напоминает книжку-раскладушку или детский домашний театр: герои – плоские фигурки, двигающиеся поверх задника, который, как ящик фокусника, с двойным дном: раз – это кабинет директора, раз – уютный дом слона Прабу, раз – цирковая арена со зрительским залом (живые зрители с удовольствием аплодируют за нарисованных). Вообще, прямого участия зрительного зала в спектакле будет немало: зрители будут подсказывать имена главных героев в начале спектакля, и, разумеется, помогать в конце, в самый решающий момент, когда Прабу никак не может взлететь – вниз тянут сомнения и грусть, а улететь в Легкую страну можно только, если ты счастлив...
Создали «Летающего слона» автор «Летающих зверей» Миша Сафронов и режиссер театра кукол Светлана Бень. Вдвоем они рассказывают сочиненную Сафроновым сказку о слоне, который очень хотел научиться летать. Мечта приводит героя в цирк, ради нее приходится работать уборщиком, слон даже отказывается от любимых сладостей (шоколада, конфет, пряников – названия разнообразных вкусностей выкрикивают из зала).
Зато увеличивается сила воли Прабу – белый шарик, который надувается и растет с каждым решительным отказом слона от сластей, нарисованных настолько живописно и аппетитно, что из зала начинают доноситься голодные вздохи.
Впрочем, даже строгие диеты не помогают, ведь простодушному слону мешает злой и хитрый директор цирка, который не верит в такую несерьезную затею, как летающий слон.
Но с помощью верной подруги-мухи, Прабу удается преодолеть все препоны, получить настоящие крылья и улететь в Легкую страну, которая летит над всеми другими странами, в которой живут легкие люди и звери, в которой у всех обязательно есть крылья. И сам спектакль получился очень легким, уютным; не серьезным «произведением искусства», а несерьезной сказкой, сделанной не для «публики», а для своих.
Спектакль «Летающий слон» сделан по мультфильму «Летающие звери» –благотворительному мультсериалу, созданному благотворительным фондом «AdVita» и Анимационной студией «Да».
Спектакль напоминает книжку-раскладушку или детский домашний театр: герои – плоские фигурки, двигающиеся поверх задника, который, как ящик фокусника, с двойным дном: раз – это кабинет директора, раз – уютный дом слона Прабу, раз – цирковая арена со зрительским залом (живые зрители с удовольствием аплодируют за нарисованных). Вообще, прямого участия зрительного зала в спектакле будет немало: зрители будут подсказывать имена главных героев в начале спектакля, и, разумеется, помогать в конце, в самый решающий момент, когда Прабу никак не может взлететь – вниз тянут сомнения и грусть, а улететь в Легкую страну можно только, если ты счастлив...
Создали «Летающего слона» автор «Летающих зверей» Миша Сафронов и режиссер театра кукол Светлана Бень. Вдвоем они рассказывают сочиненную Сафроновым сказку о слоне, который очень хотел научиться летать. Мечта приводит героя в цирк, ради нее приходится работать уборщиком, слон даже отказывается от любимых сладостей (шоколада, конфет, пряников – названия разнообразных вкусностей выкрикивают из зала).
Зато увеличивается сила воли Прабу – белый шарик, который надувается и растет с каждым решительным отказом слона от сластей, нарисованных настолько живописно и аппетитно, что из зала начинают доноситься голодные вздохи.
Впрочем, даже строгие диеты не помогают, ведь простодушному слону мешает злой и хитрый директор цирка, который не верит в такую несерьезную затею, как летающий слон.
Но с помощью верной подруги-мухи, Прабу удается преодолеть все препоны, получить настоящие крылья и улететь в Легкую страну, которая летит над всеми другими странами, в которой живут легкие люди и звери, в которой у всех обязательно есть крылья. И сам спектакль получился очень легким, уютным; не серьезным «произведением искусства», а несерьезной сказкой, сделанной не для «публики», а для своих.
Черкесская сказка «Намыс»
Наверное, лучшее, что может быть в кукольном театре – это актёр, окружённый детьми на сцене. В постановке Евгения Ибрагимова дело обстояло именно так. Пока все сидели в ожидании спектакля на берёзовых пеньках, исполнявшихроль театральных кресел, он вышел в национальной одежде с большой сумкой в руках. Евгений Ибрагимов казался похожим на некоего странника из глубинки, на мудрого и обязательно доброго сказителя.
Вытаскивая из сумки куклы, одну за другой, Ибрагимов собрал в руках целый букет из персонажей на палочках. Вызвав на сцену самых отважных маленьких зрителей, он раздал каждому по кукле. И вот началась народная черкесская сказка с моралью о чести и достоинстве.
Наверное, лучшее, что может быть в кукольном театре – это актёр, окружённый детьми на сцене. В постановке Евгения Ибрагимова дело обстояло именно так. Пока все сидели в ожидании спектакля на берёзовых пеньках, исполнявшихроль театральных кресел, он вышел в национальной одежде с большой сумкой в руках. Евгений Ибрагимов казался похожим на некоего странника из глубинки, на мудрого и обязательно доброго сказителя.
Вытаскивая из сумки куклы, одну за другой, Ибрагимов собрал в руках целый букет из персонажей на палочках. Вызвав на сцену самых отважных маленьких зрителей, он раздал каждому по кукле. И вот началась народная черкесская сказка с моралью о чести и достоинстве.
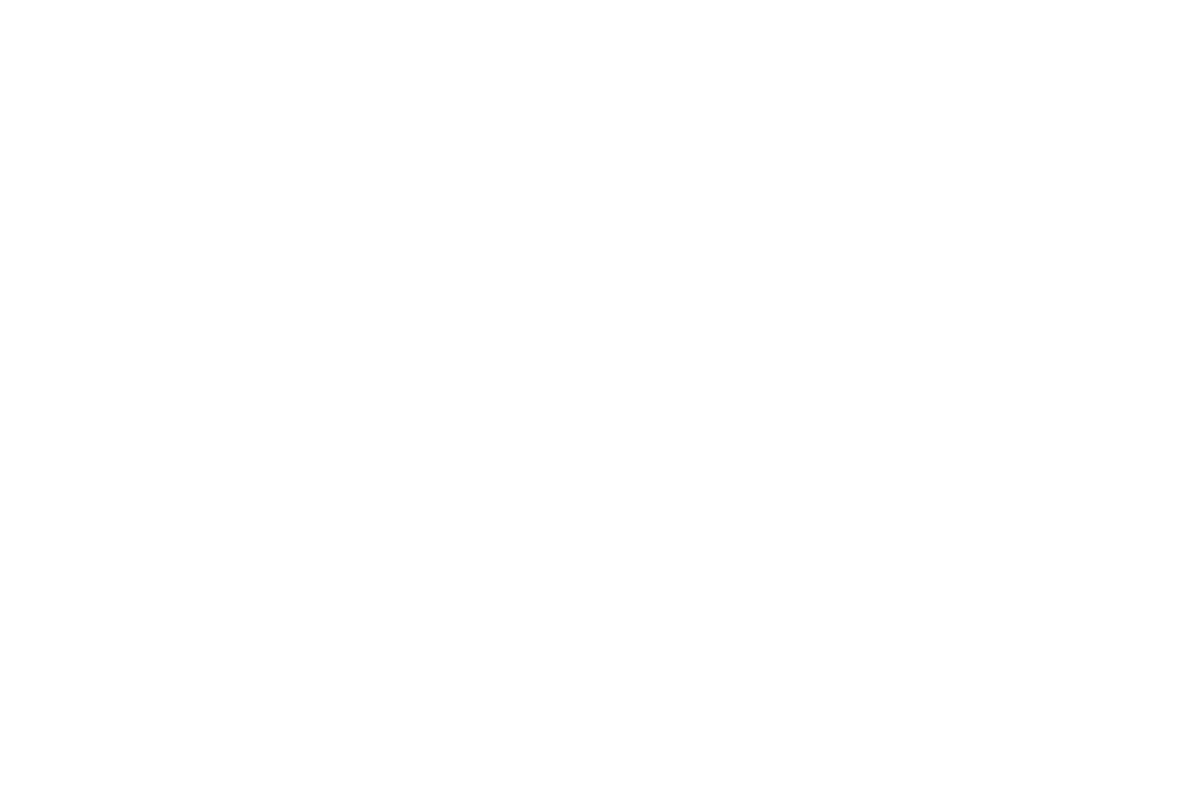 | 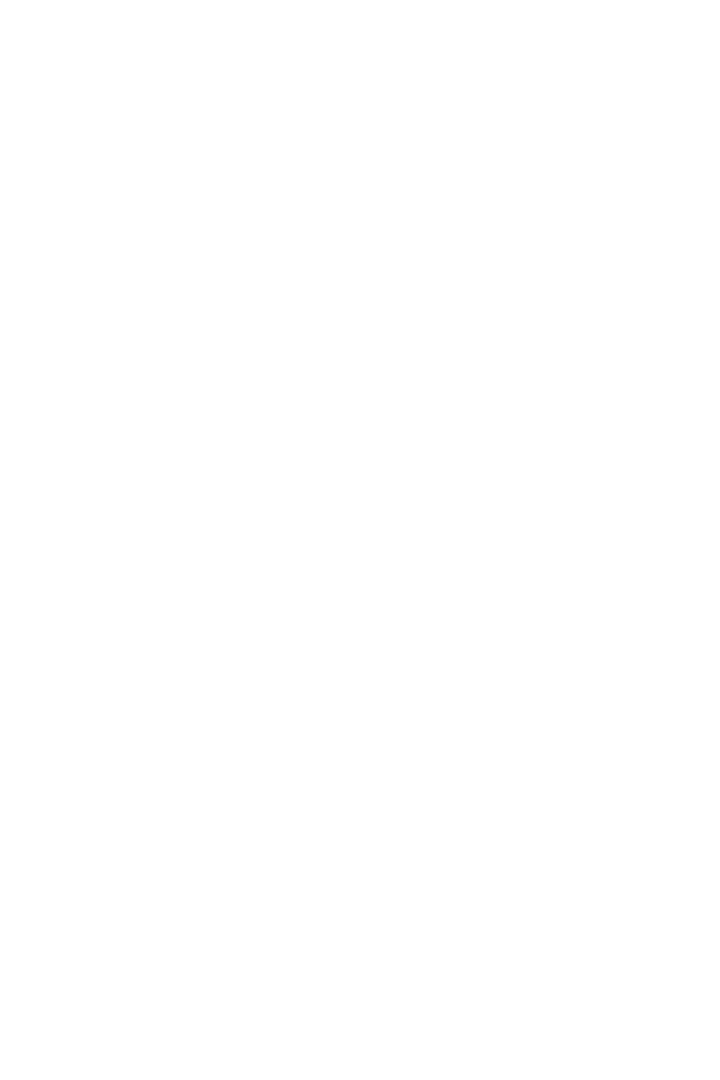 | 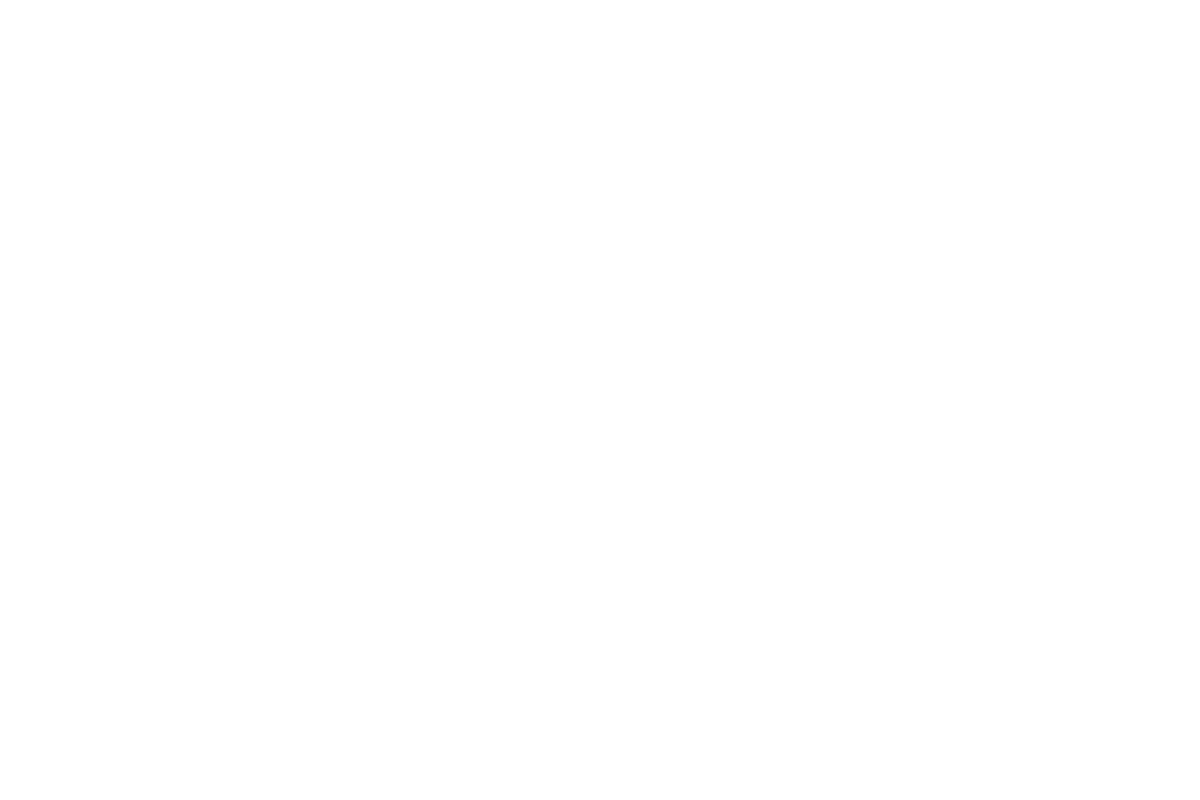 |
Жила-была большая семья: родители и три сына, при каждом сыне была жена. И вот однажды заметили они следы на снегу. Пошли по следам, а они всё никак не кончались. Оказалось, что из их дома ушло счастье.
Ибрагимов и дети вместе разыграли семейный совет, на котором решалось, как же поступить с получившейся проблемой. Один сын с женой предлагали отказаться от драгоценностей и, вообще, любого материального богатства как такового, другие – прекратить воевать и жить со всеми миром.
Но решилось всё доброй хитростью. Семья пришла на край пропасти, в которой спряталось счастье, и поставила своё условие: счастье может уходить, но пусть оставит в доме намыс, что в переводе с черкесского означает «честь». Подумало счастье и ответило, что не может оно быть без чести, а потому возвращается обратно. Добрый спектакль, полный детского участия, очень понравился всем зрителям синего шатра.
Ибрагимов и дети вместе разыграли семейный совет, на котором решалось, как же поступить с получившейся проблемой. Один сын с женой предлагали отказаться от драгоценностей и, вообще, любого материального богатства как такового, другие – прекратить воевать и жить со всеми миром.
Но решилось всё доброй хитростью. Семья пришла на край пропасти, в которой спряталось счастье, и поставила своё условие: счастье может уходить, но пусть оставит в доме намыс, что в переводе с черкесского означает «честь». Подумало счастье и ответило, что не может оно быть без чести, а потому возвращается обратно. Добрый спектакль, полный детского участия, очень понравился всем зрителям синего шатра.

ИНТЕРВЬЮ
Евгений Ибрагимов
Евгений Ибрагимов
Есть ли для вас разница между закрытым пространством театра и открытым уличным?
Да нет разницы никакой, ты хочешь донести свою мысль, и доносишь ее.
То есть, все равно где и как делать?
Абсолютно.
В ваших спектаклях, например, в том же «Старике и волчице»¹ вы много работаете с детьми...
Я не работаю вообще, работа – от слова "раб". С детьми надо общаться, очень важно. Детей нельзя травмировать, а все остальное можно с ними делать.
Есть ли для вас разница между работой с народной сказкой и авторской?
Да нет, если она несет какую-то идеологию... Я эту историю показываю в разных местах, и заграницей, как мастер-класс, например. Это же архаический театр, недотеатр. Я же могу ее рассказать так, что все будут просто хохотать и валяться, а могу очень серьезно рассказать. Это всегда зависит. От обстановки, от ситуации. Я рассказываю детям и старикам. Я рассказываю в домах для престарелых...
Да нет разницы никакой, ты хочешь донести свою мысль, и доносишь ее.
То есть, все равно где и как делать?
Абсолютно.
В ваших спектаклях, например, в том же «Старике и волчице»¹ вы много работаете с детьми...
Я не работаю вообще, работа – от слова "раб". С детьми надо общаться, очень важно. Детей нельзя травмировать, а все остальное можно с ними делать.
Есть ли для вас разница между работой с народной сказкой и авторской?
Да нет, если она несет какую-то идеологию... Я эту историю показываю в разных местах, и заграницей, как мастер-класс, например. Это же архаический театр, недотеатр. Я же могу ее рассказать так, что все будут просто хохотать и валяться, а могу очень серьезно рассказать. Это всегда зависит. От обстановки, от ситуации. Я рассказываю детям и старикам. Я рассказываю в домах для престарелых...
¹ Смотрите также:
TeatriumAutomata –
театр для одного зрителя
театр для одного зрителя
В кукольных спектаклях часто важно взаимодействие со зрителем: герои советуются с ним, предлагают спеть, позволяют «вмешаться» в действие – без поддержки зрительного зала, без его дружных криков и добро не восторжествует, и зло не будет повержено.
Спектакль «Teatriumautomata» довел идею влияния зрителя на историю до предела. Вместо того, чтобы покорно следовать за рассказчиком, предлагается создать свою собственную сказку, выбирая между сюжетныеми ходыами. Созданный Светланой Беньи Линой Хесиной, «Teatriumautomata», пожалуй, самый маленький театр на свете – театр для одного зрителя.Похожий снаружи на старинную красную фотобудку, а внутри на шарманку или старинную толстую книжку с картинками, он навевает мысли о ярмарке.
И вот, отстояв приличную очередь, зритель оказывается внутри: играет весёлая, несколько механическая музыка, мигают стрелки, поднимаются и опускаются створки, раздвигается и вновь сдвигается красный плюшевый занавес. Этакая театральная машина.
С ее помощью и создается сказка про короля и дракона: сбоку появляется небольшой кусочек текста; за сдвигающимся и раздвигающимся занавесом, в золотой раме – картинка; сверху мигающая стрелка указывает на два варианта – зрителю решать, в какую сторону пойдет рассказ. И, конечно, есть две кнопки, чтобы сделать выбор. Впрочем, «картинка», не всегда статична – на поле боя дракон «врывается», качая из стороны в сторону головой;, клетка, в которой оказывается проигравший в битве, плавно опускается на картину и т. д.
А в конце сказки зрителю предоставляют старый как мир выбор между умом и сердцем, между чувством и долгом – между конфеткой и моралью. И в зависимости от выбора, вы получаете, либо вкусную конфетку, либо мудрое абстрактное изречение.
В «Teatriumautomata» готов провести весь день – ведь столько возможных вариантов развития истории, и так хочется увидеть все!
Спектакль «Teatriumautomata» довел идею влияния зрителя на историю до предела. Вместо того, чтобы покорно следовать за рассказчиком, предлагается создать свою собственную сказку, выбирая между сюжетныеми ходыами. Созданный Светланой Беньи Линой Хесиной, «Teatriumautomata», пожалуй, самый маленький театр на свете – театр для одного зрителя.Похожий снаружи на старинную красную фотобудку, а внутри на шарманку или старинную толстую книжку с картинками, он навевает мысли о ярмарке.
И вот, отстояв приличную очередь, зритель оказывается внутри: играет весёлая, несколько механическая музыка, мигают стрелки, поднимаются и опускаются створки, раздвигается и вновь сдвигается красный плюшевый занавес. Этакая театральная машина.
С ее помощью и создается сказка про короля и дракона: сбоку появляется небольшой кусочек текста; за сдвигающимся и раздвигающимся занавесом, в золотой раме – картинка; сверху мигающая стрелка указывает на два варианта – зрителю решать, в какую сторону пойдет рассказ. И, конечно, есть две кнопки, чтобы сделать выбор. Впрочем, «картинка», не всегда статична – на поле боя дракон «врывается», качая из стороны в сторону головой;, клетка, в которой оказывается проигравший в битве, плавно опускается на картину и т. д.
А в конце сказки зрителю предоставляют старый как мир выбор между умом и сердцем, между чувством и долгом – между конфеткой и моралью. И в зависимости от выбора, вы получаете, либо вкусную конфетку, либо мудрое абстрактное изречение.
В «Teatriumautomata» готов провести весь день – ведь столько возможных вариантов развития истории, и так хочется увидеть все!
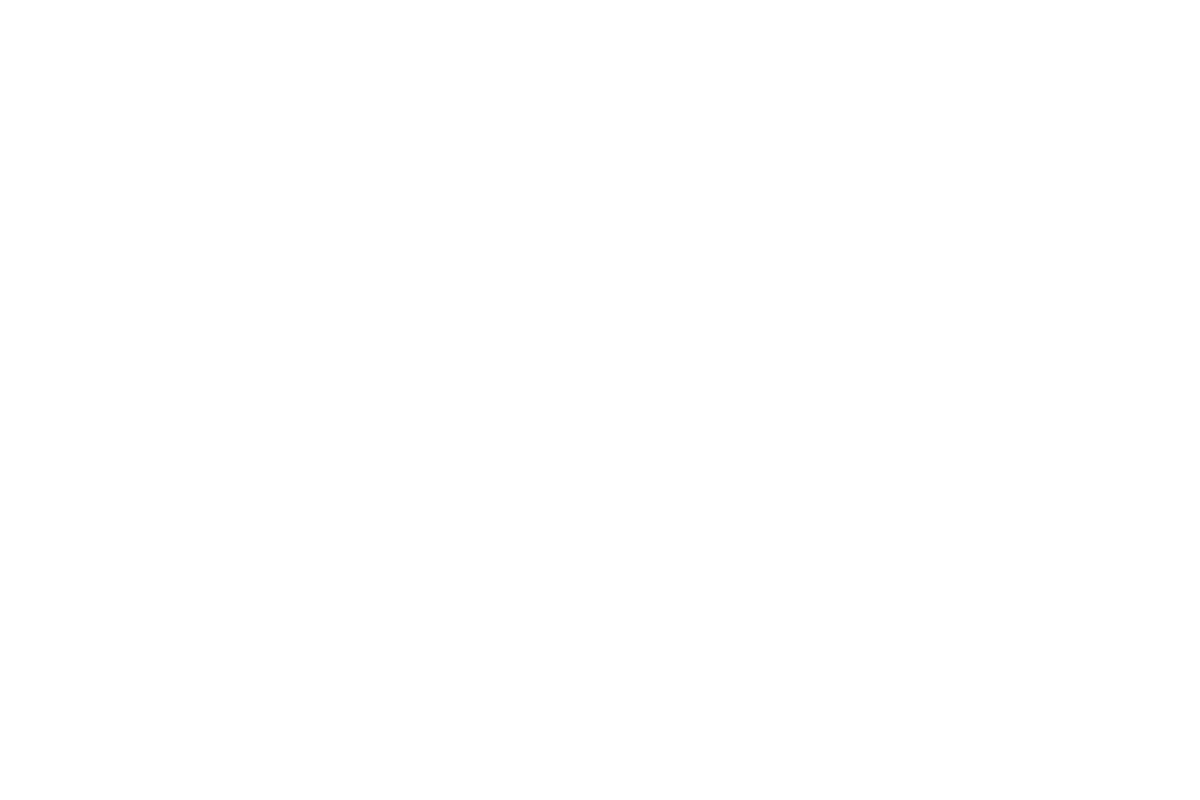
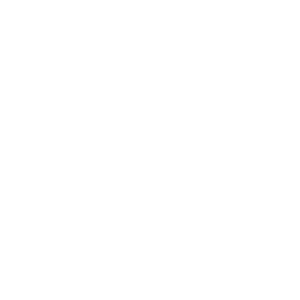
ИНТЕРВЬЮ
Светлана Бень
Светлана Бень
Расскажите, пожалуйста, про два ваших сегодняшних спектакля
["Летающий слон" и "«Teatriumautomata»" – С. Д.]
Один спектакль был создан вместе с Мишей Сафроновым, прекрасным автором мультфильма "Летающие звери [подробнее о мультфильме «Летающие звери» см. http://flyani.ru/ - С. Д.], но я бы даже не решилась назвать это вполне каким-то таким "спектаклем", это... Ну, да, это спектакль. Но особого рода. Он создан в духе домашних картонных настольных театров, которые были чрезвычайно популярны много лет назад, когда еще не было телевизора и интернета, и это способ рассказать какую-то историю, украсив ее рассказ плоскими, лишь отчасти анимированными картинками. Такая очень медленная анимация, или спектакль, очень похожий на мультфильм, или чтение книжки с картинками.
И этот спектакль мы делали на кухне, своими силами, в нем нет единого художественного стиля - все приходящие художники помогали. Поэтому одна сцена решена в одном художественном стиле, вторая в третьем... И в четвертом, и в пятом, и в шестом, и так далее. Но, может, это и придает ему какое-то особое такое очарование веселой самоделки и дает зрителю возможность набраться смелости и сделать что-то самому. Совершенно не боясь выглядеть нелепо или как-то не соответствовать какому-то уровню. «Хочешь - делай!» Вот какой-то такой главный девиз этого спектакля. Называется он «Легкий слон», именно по мотивам сказки Миши Сафронова, и есть такой мультфильм в сериале «Летающие звери», а это - более развернутая его версия.
А второй проект, который был представлен нами... Это такой театральный автомат. Специальный театр для одного зрителя, созданный в соавторстве с чудесной берлинской художницей Линой Хесиной. Она сделала там все, нарисовала, сделала все очень трепетно, руками. Это такая будка, похожая на фотобудку, которая очень традиционна для Германии, где помещается только один зритель, и с другой стороны два актера, которые в тесном содружестве имитируют, создают у зрителя с большим или меньшим успехомвпечатление, что там действует некий автомат, который подчиняется нажиманию кнопок и показывает ту историю, которую зритель придумывает сам. Он похож на смешной автомат, может быть отсылающий нас к ярморочным аттракционам.
Отличается ли для вас работа со сказкой от работы с другим материалом?
Ох, вот тут я даже не могу сказать, потому что всю свою жизнь, весь материал, с которым я только работала, это были сказки. Ничего другого, кроме сказок, мне недоводилось делать, поэтому сравнить с чем-нибудь другим мне очень трудно.
Спектакль «Летающий слон» создан по мотивам мультфильма. В чем, по вашему мнению, сходство и разница между мультфильмом и вашим спектаклем?
Очень много схожего, потому что это один и тот же принцип: оживление неживого анимация в театре кукол и непосредственно мультипликации - очень схожий процесс. Но если в мультипликации это очень-очень длительный процесс, то театр кукол позволяет сделать это гораздо быстрее и эффективнее. Какие-то движения, которые происходят прямо здесь и сейчас, на глазах у зрителя. От этого возникает особенная магия.
Я явлюсь ярым поклонником анимации, мультипликации. Я так люблю мультфильмы, и мне кажется, что нет ничего лучше в мире, но мне кажется, что театр кукол, не уступает ей. Он другой, но он не уступает мультикам, потому что оживление происходит прямо на глазах у зрителя. В этом есть всегда фокус, есть какая-то магия, есть нечто завораживающее. И потом, о чень часто спектакль увлекает зрителя, он непосредственно проживает здесь и сейчас какую-то историю, либо в ней непосредственно участвует, отвечая на вопросы, топая-хлопая, создавая шум, спасая героев, принимая участие. Мне кажется, что это очень замечательно, потому что это контакт, это общение, а общение нам всем так необходимо.
["Летающий слон" и "«Teatriumautomata»" – С. Д.]
Один спектакль был создан вместе с Мишей Сафроновым, прекрасным автором мультфильма "Летающие звери [подробнее о мультфильме «Летающие звери» см. http://flyani.ru/ - С. Д.], но я бы даже не решилась назвать это вполне каким-то таким "спектаклем", это... Ну, да, это спектакль. Но особого рода. Он создан в духе домашних картонных настольных театров, которые были чрезвычайно популярны много лет назад, когда еще не было телевизора и интернета, и это способ рассказать какую-то историю, украсив ее рассказ плоскими, лишь отчасти анимированными картинками. Такая очень медленная анимация, или спектакль, очень похожий на мультфильм, или чтение книжки с картинками.
И этот спектакль мы делали на кухне, своими силами, в нем нет единого художественного стиля - все приходящие художники помогали. Поэтому одна сцена решена в одном художественном стиле, вторая в третьем... И в четвертом, и в пятом, и в шестом, и так далее. Но, может, это и придает ему какое-то особое такое очарование веселой самоделки и дает зрителю возможность набраться смелости и сделать что-то самому. Совершенно не боясь выглядеть нелепо или как-то не соответствовать какому-то уровню. «Хочешь - делай!» Вот какой-то такой главный девиз этого спектакля. Называется он «Легкий слон», именно по мотивам сказки Миши Сафронова, и есть такой мультфильм в сериале «Летающие звери», а это - более развернутая его версия.
А второй проект, который был представлен нами... Это такой театральный автомат. Специальный театр для одного зрителя, созданный в соавторстве с чудесной берлинской художницей Линой Хесиной. Она сделала там все, нарисовала, сделала все очень трепетно, руками. Это такая будка, похожая на фотобудку, которая очень традиционна для Германии, где помещается только один зритель, и с другой стороны два актера, которые в тесном содружестве имитируют, создают у зрителя с большим или меньшим успехомвпечатление, что там действует некий автомат, который подчиняется нажиманию кнопок и показывает ту историю, которую зритель придумывает сам. Он похож на смешной автомат, может быть отсылающий нас к ярморочным аттракционам.
Отличается ли для вас работа со сказкой от работы с другим материалом?
Ох, вот тут я даже не могу сказать, потому что всю свою жизнь, весь материал, с которым я только работала, это были сказки. Ничего другого, кроме сказок, мне недоводилось делать, поэтому сравнить с чем-нибудь другим мне очень трудно.
Спектакль «Летающий слон» создан по мотивам мультфильма. В чем, по вашему мнению, сходство и разница между мультфильмом и вашим спектаклем?
Очень много схожего, потому что это один и тот же принцип: оживление неживого анимация в театре кукол и непосредственно мультипликации - очень схожий процесс. Но если в мультипликации это очень-очень длительный процесс, то театр кукол позволяет сделать это гораздо быстрее и эффективнее. Какие-то движения, которые происходят прямо здесь и сейчас, на глазах у зрителя. От этого возникает особенная магия.
Я явлюсь ярым поклонником анимации, мультипликации. Я так люблю мультфильмы, и мне кажется, что нет ничего лучше в мире, но мне кажется, что театр кукол, не уступает ей. Он другой, но он не уступает мультикам, потому что оживление происходит прямо на глазах у зрителя. В этом есть всегда фокус, есть какая-то магия, есть нечто завораживающее. И потом, о чень часто спектакль увлекает зрителя, он непосредственно проживает здесь и сейчас какую-то историю, либо в ней непосредственно участвует, отвечая на вопросы, топая-хлопая, создавая шум, спасая героев, принимая участие. Мне кажется, что это очень замечательно, потому что это контакт, это общение, а общение нам всем так необходимо.
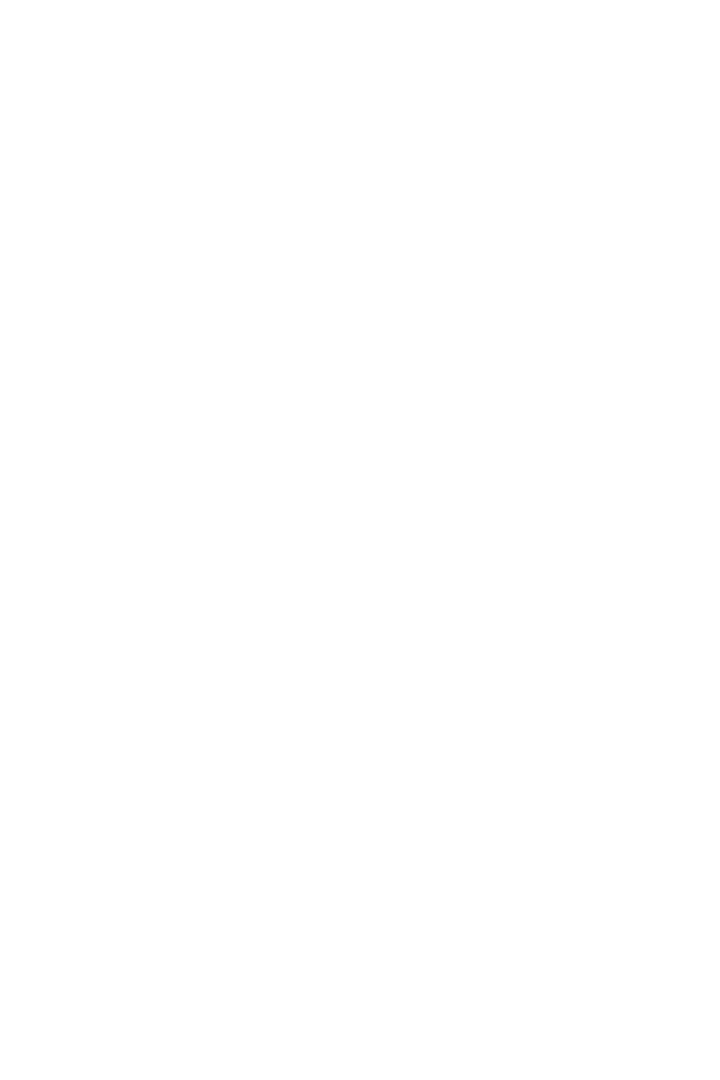 | 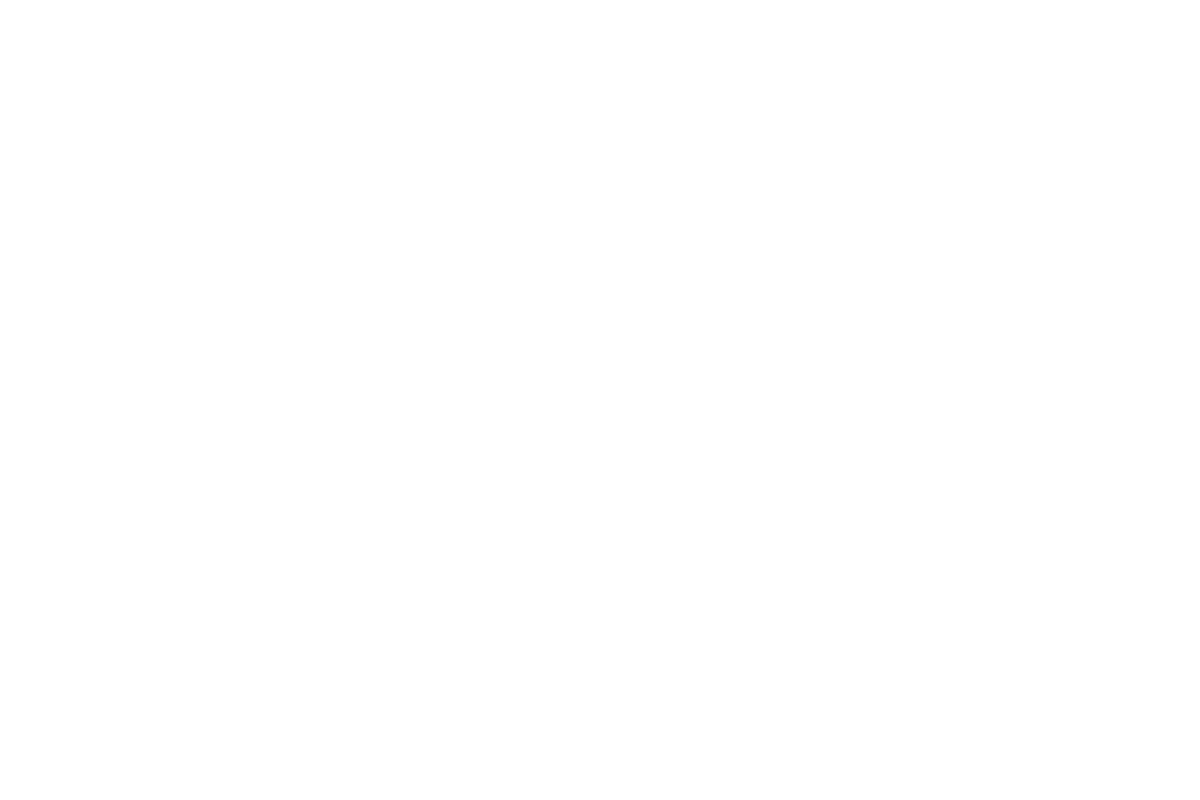 | 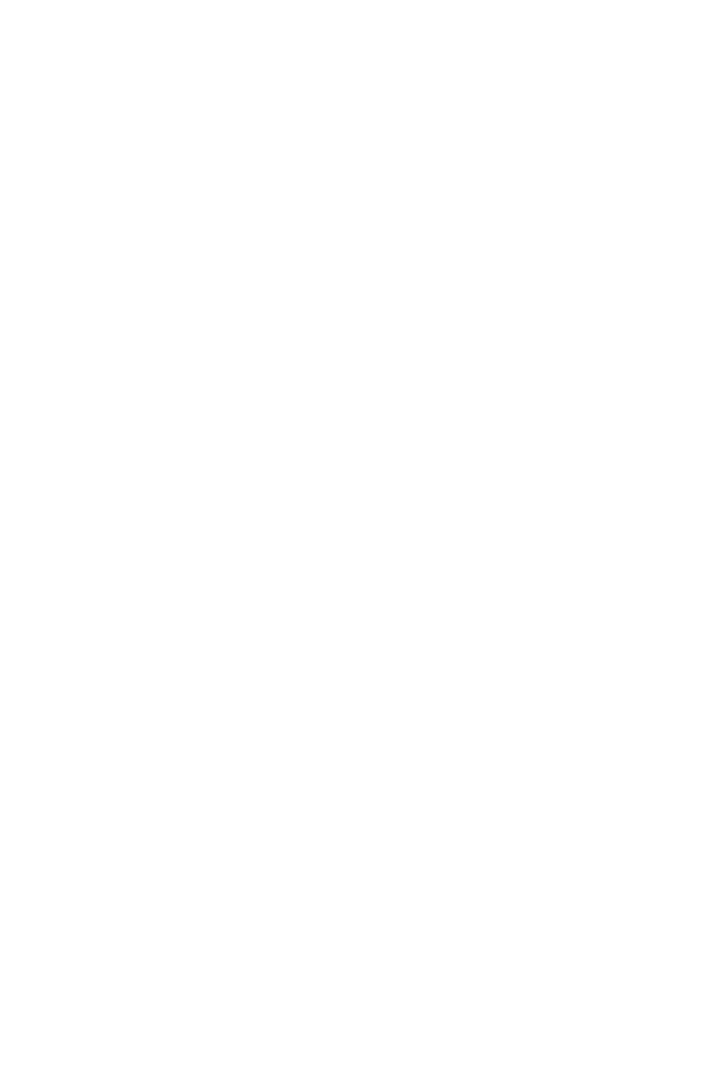 |
«Монохром». Театр АХЕ.
Спектакль «Монохром» инженерного театра АХЕ, ставший финалом фестиваля, неожиданно точно нашёл адресата своего спектакля в лице детей. Это спектакль-притча, о философии целого и составляющих. И это же – спектакль-хулиганство, столь подходящий пространству «цирка для хулиганов».
На небольшом плавучем помосте два корифея театра АХЕ – Павел Семченко и Максим Исаев; вокруг них развешаны разные хитрые приспособления: трубки с краской, рулоны бумаги, бутылки, инструменты и многое другое.
Спектакль «Монохром» инженерного театра АХЕ, ставший финалом фестиваля, неожиданно точно нашёл адресата своего спектакля в лице детей. Это спектакль-притча, о философии целого и составляющих. И это же – спектакль-хулиганство, столь подходящий пространству «цирка для хулиганов».
На небольшом плавучем помосте два корифея театра АХЕ – Павел Семченко и Максим Исаев; вокруг них развешаны разные хитрые приспособления: трубки с краской, рулоны бумаги, бутылки, инструменты и многое другое.
 | 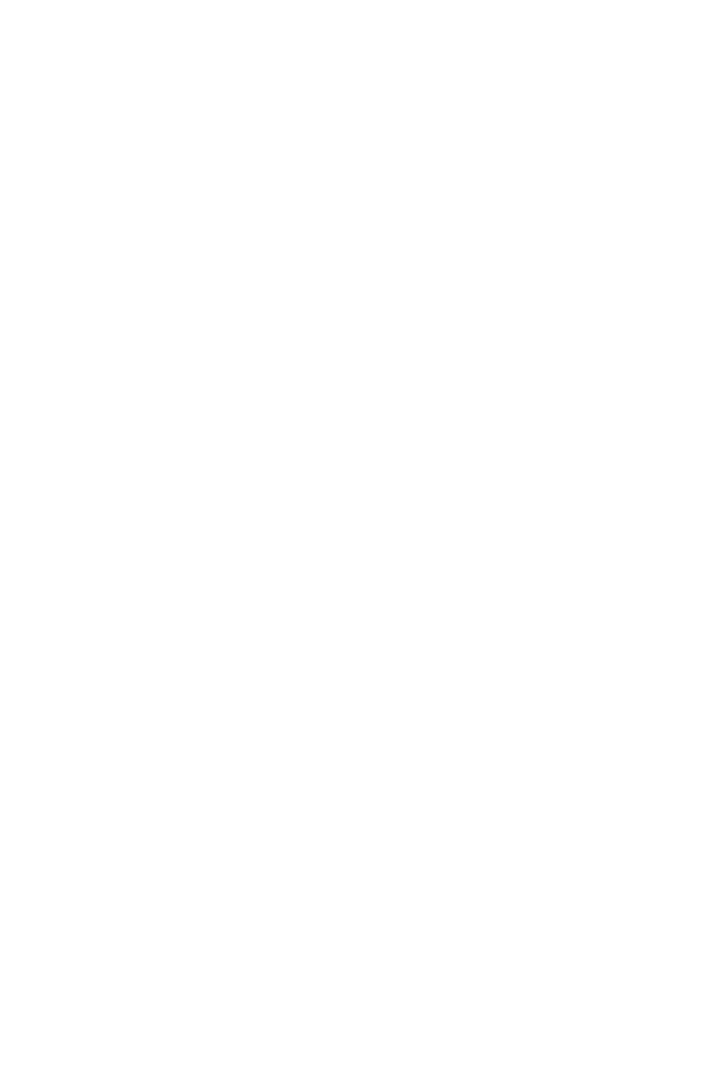 | 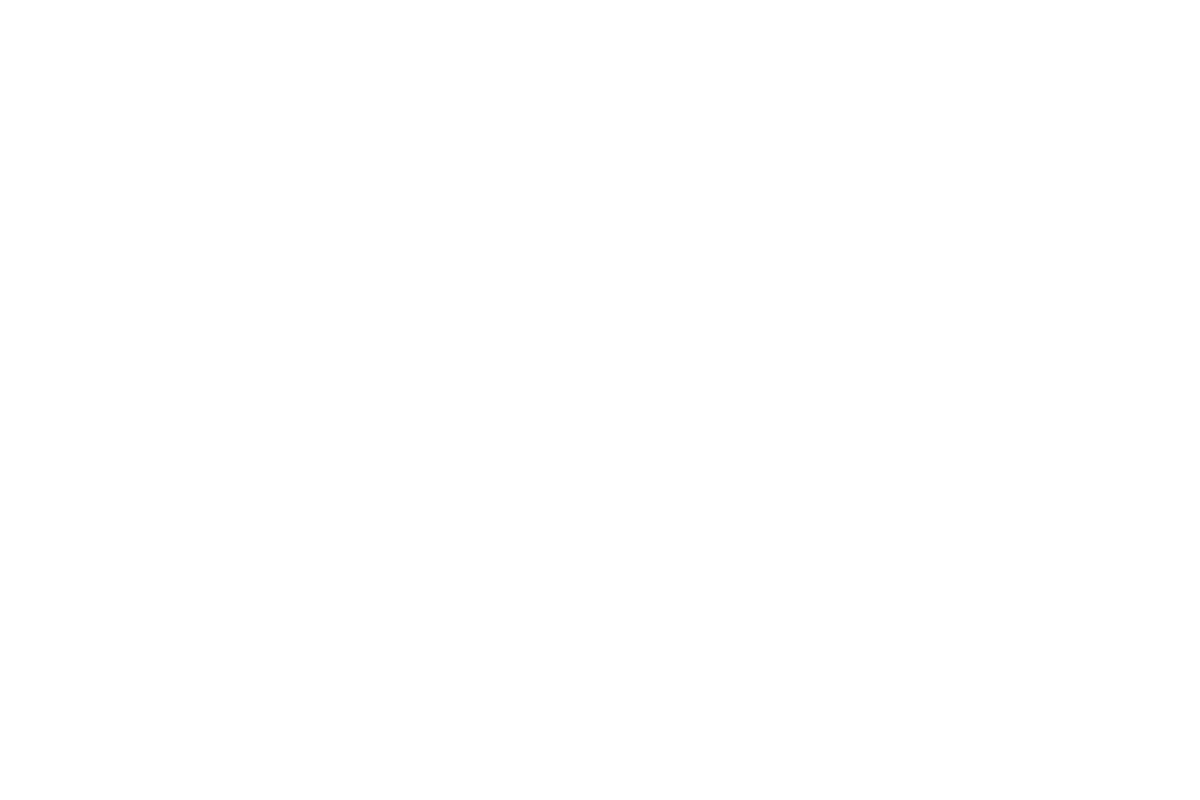 |
Две главных составляющих спектакля – это цвет и звук, преломляющиеся в процессе действия. Ключ к замыслу«Монохрома» – слово дисперсия. Физический закон, который обретает существование на наших глазах: в закрашенных разными цветами изначально белых футболках, во всем известной присказке «каждый охотник желает знать, где сидит фазан», написанной на доске, во вспышках цветного дыма и яркой краске на лицах. В спектре всего происходящего безумия. Или фигуративного театра. Или такого баловства, которому позавидовали бы все юные зрители на берегу. Называйте, как хотите.
Спектакль состоит из блоков. Каждый блок – рождение следующего цвета. Это стягивание с актера очередной облитой краcкой майки. Это зачитывание куска довольно абстрактной социально-сатирической истории про некого Егора, в которой обязательно где-то встретится одно из слов считалочки «каждый охотник желает...» Наконец, развитие музыкальной ткани; музыкант Денис Антонов, кстати, дрейфует в небольшой лодке недалеко от «сцены».
И этот спектр – радуга из футболок на вешалках, эта дописанная фраза, грандиозный финал разложения цвета – это утверждение единства, несокрушимости целого, гармонии первоначального. Казалось бы, все начиналось с порядка: с белого, ещё не были разлиты кубометры краски, и не были сыграны все аккорды, но спектакль утверждает тот же космос и в своём разноцветном финале.
Композиция настолько естественна, что всё окружающее начинает казаться работающей сценографией: вот зажглись большие белые звёзды на высотных домах, и это – подтверждение тезиса инженеров АХЕ о космосе и хаосе, заключённом в цвете, в пространстве, в городе. Мы вышли из белого, прошли через тернии хаоса и цветных взрывов и вернулись к упорядоченности вновь, но уже другой – с радугой, потом, аплодисментами, и брызгами воды из-под прыгнувшего в пруд Павла Семченко.
Спектакль состоит из блоков. Каждый блок – рождение следующего цвета. Это стягивание с актера очередной облитой краcкой майки. Это зачитывание куска довольно абстрактной социально-сатирической истории про некого Егора, в которой обязательно где-то встретится одно из слов считалочки «каждый охотник желает...» Наконец, развитие музыкальной ткани; музыкант Денис Антонов, кстати, дрейфует в небольшой лодке недалеко от «сцены».
И этот спектр – радуга из футболок на вешалках, эта дописанная фраза, грандиозный финал разложения цвета – это утверждение единства, несокрушимости целого, гармонии первоначального. Казалось бы, все начиналось с порядка: с белого, ещё не были разлиты кубометры краски, и не были сыграны все аккорды, но спектакль утверждает тот же космос и в своём разноцветном финале.
Композиция настолько естественна, что всё окружающее начинает казаться работающей сценографией: вот зажглись большие белые звёзды на высотных домах, и это – подтверждение тезиса инженеров АХЕ о космосе и хаосе, заключённом в цвете, в пространстве, в городе. Мы вышли из белого, прошли через тернии хаоса и цветных взрывов и вернулись к упорядоченности вновь, но уже другой – с радугой, потом, аплодисментами, и брызгами воды из-под прыгнувшего в пруд Павла Семченко.
НАД ДНЕВНИКОМ РАБОТАЛИ:
Материалы – Елизавета Сорокина, София Дымшиц, Давид Жарницкий
Фотографии взяты из открытых источников
(https://vk.com/upsalacircus, фото: Василий Вострухин)
Арт-директор – Артём Арсенян
Литературный редактор – Ксения Кожевникова
Материалы – Елизавета Сорокина, София Дымшиц, Давид Жарницкий
Фотографии взяты из открытых источников
(https://vk.com/upsalacircus, фото: Василий Вострухин)
Арт-директор – Артём Арсенян
Литературный редактор – Ксения Кожевникова
